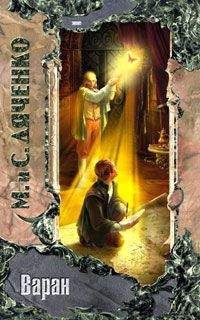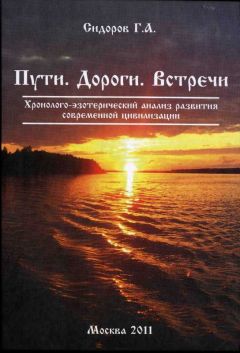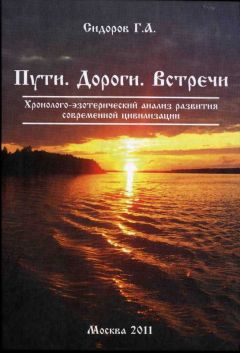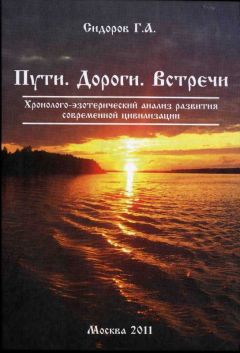Стивен Кинг - Тьма, – и больше ничего (сборник)
Когда Лестер появился второй раз, на его лице читалось отчаяние, и он выпалил сразу: не произошел ли с моей женой несчастный случай прямо здесь, на ферме? Именно поэтому ее нигде не нашли, ни живой, ни мертвой…
– Мистер Лестер, если вы спрашиваете, убил ли я свою жену, ответ – нет.
– Да, конечно, а как еще вы можете ответить на этот вопрос?
– Это был ваш последний вопрос, сэр. Идите к своему грузовику, уезжайте и больше сюда не возвращайтесь. Если вернетесь, я вас отлуплю рукояткой топора.
– И сядете в тюрьму за нападение и нанесение побоев. – В тот день он нацепил целлулоидный воротничок, который съехал набок. Наверное, стоило пожалеть мистера Лестера, когда он стоял передо мной с кривым воротничком, врезающимся в мягкую плоть под подбородком, с полосками, оставленными на его покрытом пылью, пухлом лице с капельками пота, с дрожащими губами и выпученными глазами.
– Как бы не так. Я вас предупредил: держитесь подальше от моей собственности. И я собираюсь отправить письмо вашей компании с таким же предупреждением и с уведомлением о вручении. Если появитесь здесь снова, это будет нарушением закона, и я вас изобью. Считайте, что вы предупреждены, сэр.
Ларс Олсен, который вновь привез Лестера на своем грузовике «Красная крошка», сложил ладони лодочкой и приставил к ушам, чтобы лучше слышать.
Подойдя к бездверной кабине со стороны пассажирского сиденья, Лестер повернулся ко мне и вытянул руку с указующим перстом, словно адвокат в зале суда, желающий произвести впечатление на присяжных.
– Я думаю, вы ее убили! Рано или поздно тайное станет явным!
Генри, или Хэнк – теперь он предпочитал это имя, – вышел из амбара. Он закидывал сено на сеновал, поэтому держал в руках вилы наперевес, совсем как винтовку.
– По-моему, вам лучше убраться отсюда до того, как вам пустят кровь. – Добрый и застенчивый мальчик, каким я знал Генри до лета 1922 года, никогда бы такого не сказал, а Хэнк сказал, и Лестер понял, что это не пустые слова. Он залез в кабину. Поскольку дверцу захлопнуть не мог, ограничился тем, что сложил руки на груди.
– Приезжай в любое время, Ларс. – Я посмотрел на Олсена. – Но этого не бери с собой, как бы много он ни предлагал тебе за перевозку своего толстого зада.
– Да, сэр, мистер Джеймс, – ответил Ларс, и они уехали.
Я повернулся к Генри:
– Ты бы ткнул его вилами?
– Да. Чтобы он заверещал. – А потом без тени улыбки он вернулся в амбар.
Но в то лето он, случалось, улыбался, и по понятной причине. Этой причиной была Шеннон Коттери. Он часто виделся с ней (и, как я выяснил осенью, она показывала ему больше, чем следовало). Шеннон взяла за правило приходить к нам по вторникам и четвергам, во второй половине дня, в длинном платье и шляпке, и приносила корзинку, наполненную чем-то вкусным. По ее словам, она знала, «что готовят мужчины», словно прожила на свете тридцать, а не пятнадцать лет, и намеревалась проследить, чтобы хотя бы два раза в неделю мы могли сытно поужинать. И хотя мне довелось только раз отведать тушеного мяса с овощами, приготовленного миссис Коттери, я могу сказать, что даже в пятнадцать лет эта девушка была отменной кухаркой. Мы с Генри просто поджаривали стейки на сковороде. Шеннон же использовала приправы, благодаря которым мясо приобретало божественный вкус. Она приносила в корзинке и свежие овощи – не только морковь и горошек, но и экзотическую (для нас) спаржу и толстую зеленую фасоль, которые готовила с луком-севком и беконом. Потом следовал десерт. Я могу закрыть глаза в этом обшарпанном номере отеля и вновь уловить аромат ее выпечки. Вновь увидеть, как над столом покачивалась ее грудь, когда она взбивала яичный белок или сливки.
У Шеннон было большое сердце, как, впрочем, и грудь, и бедра. К Генри она относилась с нежностью, чувствовалось, что он ей дорог. Оттого она стала дорога и мне… только это, читатель, лишь в малой степени отражает мои чувства к ней. Я полюбил ее, и мы оба любили Генри. По вторникам и четвергам после обеда я сам убирал со стола, а их отправлял на крыльцо. Иногда, слыша, как они шепчутся, выглядывал на крыльцо и видел, как они бок о бок сидят в креслах-качалках, смотрят на западное поле и держатся за руки, как давно женатая пара. Случалось, я замечал, как они целовались, и тут уж они не походили на супругов. В этих поцелуях чувствовались страсть и нетерпение, свойственные только очень молодым, и я отворачивался: щемило сердце.
Однажды во вторник она пришла рано. Ее отец жал кукурузу на северном поле, Генри помогал ему, за жаткой шли сборщики, индейцы из резервации шошонов в Лайм-Биске, а последним ехал грузовик Старого Пирога. Шеннон попросила кружку холодной воды, и эту просьбу я с радостью исполнил. Она стояла в тени дома, в широком платье до пят и с длинными рукавами, в квакерском платье. Оставалось только удивляться, как она в нем не запарилась. Шеннон была так зажата, даже испугана, что на какое-то мгновение я тоже испугался. Он ей сказал, подумал я. Ошибся, конечно. Да только в каком-то смысле он ей действительно сказал.
– Мистер Джеймс, Генри болен?
– Болен? Разумеется, нет. Я бы сказал, здоров как бык. И ест так же. Ты сама видела. Хотя я думаю, даже больной человек не сможет отказаться от твоей готовки, Шеннон.
Своими словами я заработал улыбку, но, увы, мимолетную.
– В это лето он какой-то другой. Я всегда знала, о чем он думает, а теперь – нет. Он уходит в себя.
– Правда? – спросил я, пожалуй, с излишним жаром.
– Вы не заметили?
– Нет, мэм. – Я, конечно, заметил. – Для меня он все тот же Генри. Но к тебе он неровно дышит, Шен. Может, тебе кажется, что он уходит в себя, поскольку он влюблен.
Я думал, после этих слов могу рассчитывать на искреннюю улыбку, но нет. Она коснулась моего запястья. Холодными, как ручка кружки, пальцами.
– Я думала об этом, но… – И она тут же раскрыла причину своей тревоги. – Мистер Джеймс, если бы ему нравился кто-то еще… одна из девочек из нашей школы… вы бы мне сказали, правда? Не пытались бы… расстроить меня?
Я рассмеялся и увидел отразившееся на ее лице облегчение.
– Шен, послушай меня, я твой друг. Лето – время тяжелой работы, а с уходом Арлетт мы с Хэнком заняты, как однорукие оклейщики обоев. Вечером, приходя домой, мы едим – и очень вкусно, когда приходишь ты, – и еще час читаем. Иногда он говорит о том, как ему недостает его мамы. Потом ложимся спать, встаем, и все повторяется. Ему едва хватает времени, чтобы ухаживать за тобой, не говоря уж о какой-то другой девушке.
– За мной он ухаживает, это так. – Она посмотрела в ту сторону, откуда доносилось стрекотание жатки ее отца.
– Что ж… это ведь хорошо?
– Я просто думала… он теперь такой тихий… такой задумчивый… иногда смотрит вдаль, и мне приходится дважды или трижды повторять его имя, прежде чем он услышит меня и ответит. – Она густо покраснела. – Даже поцелуи его кажутся другими. Не знаю, как это объяснить, но они другие. И если вы когда-нибудь повторите ему мои слова, я умру. Просто умру.
– Никогда не повторю. Друзей не предают.
– Наверное, я веду себя глупо. И разумеется, ему недостает мамы. Я знаю, что недостает. Но в школе так много девочек, которые красивее… красивее меня…
Я приподнял ее подбородок, чтобы она смотрела на меня.
– Шеннон Коттери, когда мой мальчик смотрит на тебя, он видит самую красивую девочку на свете. И он прав. Черт, да будь я в его возрасте, тоже ухаживал бы за тобой.
– Спасибо, – ответила она. В уголках глаз, как маленькие бриллианты, застыли слезы.
– Единственное, о чем тебе надо волноваться, – это как возвращать его к действительности, если он забывается. Парни могут очень уж разгорячиться, знаешь ли. А в крайнем случае просто приди и скажи мне. Друзья могут поговорить и о таком, это нормально.
Тут она обняла меня, а я – ее. Но объятие это, наверное, доставило Шеннон больше удовольствия, чем мне. Потому что между нами стояла Арлетт. Она стояла между мной и всем, что происходило летом 1922 года, и думаю, то же самое ощущал и Генри. Шеннон только что рассказала мне об этом.
Одной августовской ночью, когда уборка кукурузы закончилась и бригада Старого Пирога, получив причитающиеся деньги, вернулась в резервацию, меня разбудило коровье мычание. Я проспал дойку, подумал я, нащупал на прикроватном столике карманные часы моего отца и, всмотревшись в циферблат, увидел, что еще четверть четвертого. Приложив часы к уху, убедился, что они тикают, да и взгляд в окно, за которым царила безлунная ночь, подсказал, что до дойки еще далеко. Впрочем, и по мычанию коровы чувствовалось: причина не в том, что ей хочется избавиться от молока. Животное мучилось от боли. Коровы так мычат, когда телятся, но наши «богини» давно вышли из этого возраста.
Поднявшись, я направился к двери, но тут же вернулся к стенному шкафу и достал винтовку двадцать второго калибра. Я услышал, как Генри похрапывает за закрытой дверью своей комнаты, когда проходил по коридору с винтовкой в одной руке и сапогами в другой. Надеялся, что он не проснется и не захочет присоединиться ко мне в этом, возможно, опасном деле. К тому времени в наших краях почти не осталось волков, но Старый Пирог говорил, что около рек Платт и Медсин-Крик появились лисы с «летней болезнью». Так шошоны называли бешенство, и причиной мычания коровы вполне могла стать бешеная тварь, проникшая в амбар.